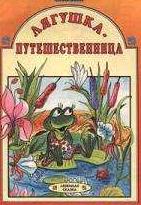 |
La rano-vojaghanto (V.M. Garshin) |
Estis iam en la mondo unu rano-kvakularano. Ghi sidis en marcho, kaptadis kulojn kaj mushojn, printempe laute blekis kune kun siaj amikoj. Kaj ghia tuta vivo pasus senprobleme - kompreneble, se cikonio ne formanghus ghin. Sed okazis jena aventuro.
Foje ghi sidis sur brancheto de trunko kushanta en la akvo kaj ghuis varman subtilan pluveton.
"Ho, kiel belege humida estas la hodiaua vetero!" - ghi pensis. - "Kia plezuro estas vivi en la mondo!"
La pluveto frapetis ghian varikoloran brilantan dorson, gutoj fluis sub ghian ventreton kaj piedetojn, kaj tio estis admirinde plezura, tiel plezura, ke ghi apenau ne ekkvakis, sed, bonshance, rememoris, ke jam estis autuno kaj ke autune ranoj ne kvakas, - por tio ja printempo ekzistas, - kaj ke, ekkvakante, ghi povus makuli sian ranan dignon. Tial ghi silentis kaj daurigis sian ghuadon.
Subite delikata, fajfa, intermita sono audeblis en la aero. Estas tia speco de anasoj: kiam ili flugas, iliaj flugiloj, distranchante aeron, kvazau kantas au, pli ghuste, fajfetas. Fju-fju-fju-fju sonas en aero kiam aro de tiuj anasoj flugas alte super oni, sed oni ne vidas ilin mem, tiom alte tiuj flugas. Tiufoje la anasoj, desegninte grandegan duoncirklon en la aero, malsuprenighis kaj sidighis sur ghuste tiun marchon, kie la rano loghis.
- Kvak, kvak! - unu el ili diris. - Estas necese pluflugi malproksimen; ni manghu.
Do la rano tuj kashis sin. Kvankam ghi ja sciis, ke la anasoj ne manghos ghin, la grandan kaj dikan kvakulon, tamen malgrau tio, por chiu okazo, ghi plonghis sub la trunkon. Tamen, pripensinte, ghi decidis elakvigi sian globokulan kapon: ghi tre volis scii, kien la anasoj flugas.
- Kvak, kvak! - alia anaso diris, - jam malvarmighas! Rapide suden! Rapide suden!
Kaj chiuj anasoj komencis laute kvaki por aprobo.
- Sinjoroj anasoj! - la rano kuraghis diri, - kio estas la sudo, al kiu vi flugas? Mi petas vian pardonon pro maltrankviligo.
Do la anasoj chirkauis la ranon. Komence ili ekdeziris formanghi ghin, sed chiu el ili konkludis, ke la rano estas tro granda kaj ne povas gliti en la gorghon. Tiam ili komencis krii, svingante la flugilojn.
- En la sudo estas bone! Nun tie estas varme! Tie estas tiom charmaj, varmaj marchoj! Kiaj vermoj estas tie! En la sudo estas bone!
Ili tiel kriegis, ke preskau surdigis la ranon. Apenau ghi sukcesis persvadi ilin silenti kaj petis unu el ili, kiu al ghi shajnis pli dika kaj pli sagha ol chiuj, klarigi al ghi, kio estas la sudo. Kaj kiam la anaso rakontis al ghi pri la sudo, la rano ekstazighis, sed fine malgrau chio demandis, char ghi estis prudenta:
- Sed chu mushetoj kaj kuloj multas tie?
- Ho! Tutaj nuboj da ili! - la anaso respondis.
- Kvak! - la rano diris kaj tuj chirkaurigardis por vidi, chu cheestas amikoj, kiuj povus audi ghin kaj mallaudi pro la autuna kvakado. Ghi ja neniel povis deteni sin de kvaketi almenau unu fojon.
- Prenu min kun vi!
- Tio mirigas min! - la anaso surprizighis. - Kiamaniere ni prenu vin? Vi ne havas flugilojn.
- Kiam vi flugas? - la rano demandis.
- Tuj, tuj! - la anasoj kriis. - Kvak, kvak, kvak, kvak! Malvarme estas chi tie! Suden! Suden!
- Permesu al mi pensi nur kvinon da minutoj, - la rano diris, - mi tuj revenos, mi vershajne elpensos ion taugan.
Kaj ghi enplaudighis en la akvon de sur la brancheto, sur kiun ghi estis jhus denove grimpinta, enighis en shlimon kaj tute enfosighis en tiun, por ke eksteraj objektoj ne malhelpu ghin mediti. Kvin minutoj pasis, la anasoj estis tuj forflugontaj, sed subite el la akvo, apud la brancheto, sur kiu la rano sidis antaue, aperis ghia muzelo, kaj aspekto de tiu muzelo estis la plej ghojbrila, kian la rano kapablis fari.
- Mi elpensis! Mi trovis! - ghi diris. - Du el vi prenu vergeton en la bekoj, kaj mi alkrochighos al ghi meze. Vi flugos, kaj mi veturos. Nur necesas, ke nek vi nek mi kvaku, kaj chio sukcesos perfekte.
Kvankam silenti kaj porti la ranon ech ne pezan trans tri mil verstoj ne estas granda plezuro, tamen ghia sagho tiel admirigis la anasojn, ke ili unuanime konsentis porti ghin. Ili konkludis trnasdonadi ghin post chiu dua horo, kaj pro tio, ke da la anasoj estis, kvazau lau vortoj de unu enigmo, tiom kaj samtiom kaj duontiom kaj ankorau kvarontiom, sed la rano estis unuopa, do chiu anaso devos porti ghin ne tre ofte. Ili trovis bonan, fortikan vergeton, du anasoj prenis ghin per la bekoj, la rano alkrochighis al la mezo, kaj la tuta grego levighis en la aeron. La rano chesis spiri pro terura alteco, al kiu ghin estis flugigita; krome, la anasoj flugis neregule kaj skuis la vergeton; la kompatinda kvakulo svingighis en aero kvazau papera pupo, kaj per sia tuta forto kunpremadis siajn makzelojn, por ne malkrochighi kaj ne fali teren. Tamen ghi baldau kutimighis al sia stato kaj ech komencis chirkaurigardi. Preterkuris sub ghi kampoj, herbejoj, riveroj kaj montoj; sed chion tion estis malfacile pririgardi, char, pendinte che la vergeto, ghi rigardis malantauen kaj iomete supren, sed ion ghi ja vidis kaj fieris.
"Jen kiom bonege mi inventis", - ghi pensis silente.
Kaj la anasoj flugis post la portanta ghin antaua duopo, kriis kaj laudis ghin.
- Mirinde sagha kapo estas nia rano, - ili diris, - ech inter anasoj oni trovas malmulte da tiaj.
Ghi apenau detenis sin por ne danki ilin, sed rememorinte ke, malferminte la bushon, ghi forfalos de terura alteco, la rano pli forte kunpremis la makzelojn kaj decidis toleri. La tutan tagon ghi pendolis tiamaniere. La anasoj, kiuj portis ghin, anstatauis unuj la alian dum flugado, lerte kaptante la vergeton; tio estis timiga: plurfoje la rano preskau kvakis pro timo, sed nesesa estis spiritpreteco, kaj la kvakulo ghin havis. Tiuvespere la tuta kompanio malsuprenighis en iun marchon; dum la sunlevigho la anasoj kun la rano daurigis la vojon, sed tiufoje la vojaghanto alkrochis sin kun la dorseto kaj la kapo antauen do kun la ventreto malantauen, por pli facile vidi kion okazas sub ili. La anasoj flugis super prifalchitaj kampoj, super flavighintaj arbaroj kaj super vilaghoj, plenaj de garbigita greno. De tie audeblis homa parolado kaj frapado de drashiloj, per kiuj oni drashis sekalon. Kaj la rano ekstreme ekdeziris flugi pli proksime al la tero, montri sin kaj auskulti, kion oni diras pri ghi. Dum sekvanta ripozo ghi diris:
- Chu ni povas flugi malpli alte? Mi sentas kapturnon pro alteco, kaj mi timas fali, se mi subite ekfartos tute malbone.
Kaj bonkoraj anasoj promesis al ghi flugi pli malalte. La sekvantan tagon ili flugis tiom malalte, ke audis vochojn:
- Vidu, vidu! - infanoj kriis en unu vilagho, - la anasoj portas ranon!
La rano auskultis tion, kaj ghia koro saltadis.
- Vidu, vidu! - plenaghuloj kriis en alia vilagho , - jen do miraklo!
"Chu ili scias, ke mi, sed ne la anasoj, inventis tion?" - ekdubis la kvakulo.
- Vidu, vidu! - oni kriis en tria vilagho, - kia miraklo! Kiu do elpensis tian artifikajhon?
Tiam la rano ja ne detenis sin kaj, tute forgesinte la dangheron, kriis per la tuta forto:
- Estas mi! Mi!
Kaj tion kriante ghi kun kapo malsupren defalis al la tero. La anasoj laute ekblekis; unu el ili intencis kapti la kompatindan kunulon en aero, sed maltrafis. La rano, svingante chiujn piedojn, rapide glitis teren; sed pro tio, ke la anasoj flugis rapide, la rano falis ne ghuste sur tiun lokon, super kiu ghi ekkvakegis kaj kie estis malmola vojo, sed multe pli antauen, kaj tio estis granda felicho por la kvakulo, char ghi trafis kotan lageton che la vilagho.
Ghi baldau elshovighis el la akvo kaj pro eksciteco tuj kriis per la tuta gorgho.
- Estas mi! Estas mi, kiu elpensis tion!
Sed nenion estis chirkaue. Timigita per subita plaudo, la tuta loka ranaro diskashis sin en la akvon. Kiam ili komencis aperi el la akvo, ili mire rigardis la novulon.
Ghi do rakontis al ili la miraklan historion pri tio, ke ghi pensadis dum la tuta vivo kaj finfine elpensis la novan, eksterordinaran rimedon por vojaghi per anasoj; ke ghi havis la proprajn anasojn, kiuj portis ghin kien ghi deziris; ke ghi vizitis la belegan sudon, kie estas tiel bone, kie situas tiel admirindaj varmaj marchoj kaj tiom multas kuloj kaj aliaj chiuspecaj mangheblaj insektoj.
- Mi decidis viziti vin por ekscii, kiel vi chi tie fartas, - ghi diris. - Mi restos che vi ghis la printempo, kiam revenos miaj anasoj, kiujn mi provizore lasis.
Sed la anasoj neniam revenis. Ili opiniis, ke la kvakulo frakasighis kontrau la tero kaj tre kompatis ghin.
tradukis Barbulo
Лягушка-путешественница
(В.М.Гаршин)
Жила-была на свете лягушка-квакушка.
Сидела она в болоте, ловила
комаров да мошку, весною громко
квакала вместе со своими
подругами. И весь век она прожила
бы благополучно - конечно, в том
случае, если бы не съел ее аист. Но
случилось одно происшествие.
Однажды она сидела на сучке
высунувшейся из воды коряги и
наслаждалась теплым мелким
дождиком.
"Ах, какая сегодня прекрасная
мокрая погода! - думала она. -
Какое это наслаждение - жить на
свете!"
Дождик моросил по ее пестренькой
лакированной спинке; капли его
подтекали ей под брюшко и за
лапки, и это было восхитительно
приятно, так приятно, что она чуть-чуть
не заквакала, но, к счастью,
вспомнила, что была уже осень и
что осенью лягушки не квакают, -
на это есть весна, - и что,
заквакав, она может уронить свое
лягушечье достоинство. Поэтому
она промолчала и продолжала
нежиться.
Вдруг тонкий, свистящий,
прерывистый звук раздался в
воздухе. Есть такая порода уток:
когда они летят, то их крылья,
рассекая воздух, точно поют, или,
лучше сказать, посвистывают. Фью-фыо-фью-фью
- раздается в воздухе, когда летит
высоко над вами стадо таких уток,
а их самих даже и не видно, так они
высоко летят. На этот раз утки,
описав огромный полукруг,
спустились и сели как раз в то
самое болото, где жила лягушка.
- Кря, кря! - сказала одна из них, -
Лететь еще далеко; надо покушать.
И лягушка сейчас же спряталась.
Хотя она и знала, что утки не
станут есть ее, большую и толстую
квакушку, но все-таки, на всякий
случай, она нырнула под корягу.
Однако, подумав, она решилась
высунуть из воды свою лупоглазую
голову: ей было очень интересно
узнать, куда летят утки.
- Кря, кря! - сказала другая утка, -
уже холодно становится! Скорей на
юг! Скорей на юг!
И все утки стали громко крякать в
знак одобрения.
- Госпожи утки! - осмелилась
сказать лягушка, - что такое юг, на
который вы летите? Прошу
извинения за беспокойство.
И утки окружили лягушку. Сначала
у них явилось желание съесть ее,
но каждая из них подумала, что
лягушка слишком велика и не
пролезет в горло. Тогда все они
начали кричать, хлопая крыльями:
- Хорошо на юге! Теперь там тепло!
Там есть такие славные теплые
болота! Какие там червяки! Хорошо
на юге!
Они так кричали, что почти
оглушили лягушку. Едва-едва она
убедила их замолчать и попросила
одну из них, которая казалась ей
толще и умнее всех, объяснить ей,
что такое юг. И когда та
рассказала ей о юге, то лягушка
пришла в восторг, но в конце все-таки
спросила, потому что была
осторожна:
- А много ли там мошек и комаров?
- О! целые тучи! - отвечала утка.
- Ква! - сказала лягушка и тут же
обернулась посмотреть, нет ли
здесь подруг, которые могли бы
услышать ее и осудить за кваканье
осенью. Она уж никак не могла
удержаться, чтобы не квакнуть
хоть разик.
- Возьмите меня с собой!
- Это мне удивительно! -
воскликнула утка. - Как мы тебя
возьмем? У тебя нет крыльев.
- Когда вы летите? - спросила
лягушка.
- Скоро, скоро! - закричали все
утки. - Кря, кря! кря! кря! Тут
холодно! На юг! На юг!
- Позвольте мне подумать только
пять минут, - сказала лягушка, - я
сейчас вернусь, я наверно
придумаю что-нибудь хорошее.
И она шлепнулась с сучка, на
который было снова влезла, в воду,
нырнула в тину и совершенно
зарылась в ней, чтобы посторонние
предметы не мешали ей размышлять.
Пять минут прошло, утки совсем
было собрались лететь, как вдруг
из воды, около сучка, на котором
она сидела, показалась ее морда, и
выражение этой морды было самое
сияющее, на какое только способна
лягушка.
- Я придумала! Я нашла! - сказала
она. - Пусть две из вас возьмут в
свои клювы прутик, а я прицеплюсь
за него посередине. Вы будете
лететь, а я ехать. Нужно только,
чтобы вы не крякали, а я не
квакала, и все будет превосходно.
Хотя молчать и тащить хоть бы и
легкую лягушку три тысячи верст
не бог знает какое удовольствие,
но ее ум привел уток в такой
восторг, что они единодушно
согласились нести ее. Решили
переменяться каждые два часа, и
так как уток было, как говорится в
загадке, столько, да еще столько,
да полстолько, да четверть
столька, а лягушка была одна, то
нести ее приходилось не особенно
часто. Нашли хороший, прочный
прутик, две утки взяли его в клювы,
лягушка прицепилась ртом за
середину, и все стадо поднялось
на воздух. У лягушки захватило
дух от страшной высоты, на
которую ее подняли; кроме того,
утки летели неровно и дергали
прутик; бедная квакушка
болталась в воздухе, как бумажный
паяц, и изо всей мочи стискивала
свои челюсти, чтобы не оторваться
и не шлепнуться на землю. Однако
она скоро привыкла к своему
положению и даже начала
осматриваться. Под нею быстро
проносились поля, луга, реки и
горы, которые ей, впрочем, было
очень трудно рассматривать,
потому что, вися на прутике, она
смотрела назад и немного вверх,
но кое-что все-таки видела и
радовалась и гордилась.
"Вот как я превосходно
придумала", - думала она про
себя.
А утки летели вслед за несшей ее
передней парой, кричали и хвалили
ее.
- Удивительно умная голова наша
лягушка, - говорили они, - даже
между утками мало таких найдется.
Она едва удержалась, чтобы не
поблагодарить их, но вспомнив,
что, открыв рот, она свалится со
страшной высоты, еще крепче
стиснула челюсти и решилась
терпеть. Она болталась таким
образом целый день: несшие ее
утки переменялись на лету, ловко
подхватывая прутик; это было
очень страшно: не раз лягушка
чуть было не квакала от страха, но
нужно было иметь присутствие
духа, и она его имела. Вечером вся
компания остановилась в каком-то
болоте; с зарею утки с лягушкой
снова пустились в путь, но на этот
раз путешественница, чтобы лучше
видеть, что делается на пути,
прицепилась спинкой и головой
вперед, а брюшком назад. Утки
летели над сжатыми полями, над
пожелтевшими лесами и над
деревнями, полными хлеба в
скирдах; оттуда доносился
людской говор и стук цепов,
которыми молотили рожь. Люди
смотрели на стаю уток и, замечая в
ней что-то странное, показывали
на нее руками. И лягушке ужасно
захотелось лететь поближе к
земле, показать себя и послушать,
что об ней говорят. На следующем
отдыхе она сказала:
- Нельзя ли нам лететь не так
высоко? У меня от высоты кружится
голова, и я боюсь свалиться, если
мне вдруг сделается дурно.
И добрые утки обещали ей лететь
пониже. На следующий день они
летели так низко, что слышали
голоса:
- Смотрите, смотрите! - кричали
дети в одной деревне, - утки
лягушку несут!
Лягушка услышала это, и у нее
прыгало сердце.
- Смотрите, смотрите! - кричали в
другой деревне взрослые, - вот
чудо-то!
"Знают ли они, что это
придумала я, а не утки?" -
подумала квакушка.
- Смотрите, смотрите! - кричали в
третьей деревне. - Экое чудо! И кто
это придумал такую хитрую штуку?
Тут лягушка уж не выдержала и,
забыв всякую осторожность,
закричала изо всей мочи:
- Это я! Я!
И с этим криком она полетела
вверх тормашками на землю. Утки
громко закричали; одна из них
хотела подхватить бедную
спутницу на лету, но промахнулась.
Лягушка, дрыгая всеми четырьмя
лапками, быстро падала на землю;
но так как утки летели очень
быстро, то и она упала не прямо на
то место, над которым закричала и
где была твердая дорога, а
гораздо дальше, что было для нее
большим счастьем, потому что она
бултыхнулась в грязный пруд на
краю деревни.
Она скоро вынырнула из воды и
тотчас же опять сгоряча
закричала во все горло:
- Это я! Это я придумала!
Но вокруг нее никого не было.
Испуганные неожиданным плеском,
местные лягушки все попрятались
в воду. Когда они начали
показываться из нее, то с
удивлением смотрели на новую.
И она рассказала им чудную
историю о том, как она думала всю
жизнь и наконец изобрела новый,
необыкновенный способ
путешествия на утках; как у нее
были свои собственные утки,
которые носили ее, куда ей было
угодно; как она побывала на
прекрасном юге, где так хорошо,
где такие прекрасные теплые
болота и так много мошек и всяких
других съедобных насекомых.
- Я заехала к вам посмотреть, как
вы живете, - сказала она. - Я
пробуду у вас до весны, пока не
вернутся мои утки, которых я
отпустила.
Но утки уж никогда не вернулись.
Они думали, что квакушка
разбилась о землю, и очень жалели
ее.